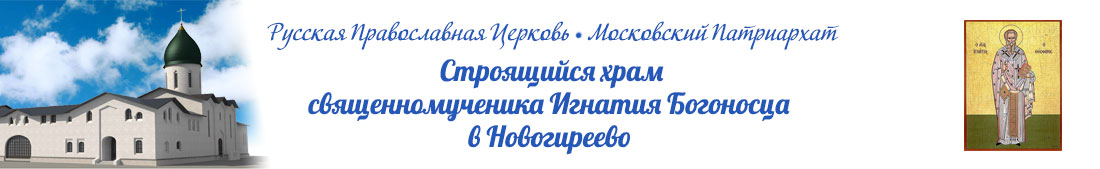Господи, благослови!
— Мамка! Мам! Мамка!
— Что, сынок?
— Ты, что ли, помолилась уже?
— А что?
— Мамка, ляг со мной, а то мне грустно.
— Павлушка, не хитри, опять трусишь?
— Трушу.
— Сынок, ну чего ты, я же рядом. Вот дверь открыта даже, ты же видишь меня.
— Мамка, ляг. А?
— Павлушка, сына мой, ну когда ты перестанешь бояться? Ты же священником, сказал, станешь. Как покойников отпевать будешь? Я, что ли, с тобой буду ездить?
— А с батюшкой всегда певчие ездят.
— Да я к тому времени помру уже, Пашка, когда ты батюшкой станешь. — Мамка, ляг. А? Ма…
— Павлушка, горе ты мое, цветочек нежный. Двигайся, давай и засыпай скорей, а то мне гладить еще.
Отец Павел служил штатным священником в старом храме Рождества Богородицы провинциального городка на Волге. Семинарии он не оканчивал, так как в то время, когда он рукополагался, семинарий и не было. Жил один в маленьком родительском доме на краю города. После смерти матери прилепился он к храму, в который ходили вместе. Первое время своего одиночества приходил просто и сидел в церкви на лавочке перед иконами. Сидел и сидел молча. Через некоторое время окликнул священник:
— Ну, что ты сидишь тут без дела каждый Божий день? Возьми, помоги что…
— А что надо?
— Ну, пойди двор вымети, воды наноси, да на обед в трапезную заходи. Ну что сидишь-то?
Так Пашка стал работником храма. Сначала по хозяйству. Потом священник взял в алтарь помогать. Затем чтецом стал. Надумали рукоположить в диаконы, голосок несильный, но ровный, молитвенный и нотки слышит. Только вот незадача: женить до рукоположения нужно парня. А он девчат стесняется, прямо бежит от них. Застенчивость в нем такая крайняя, того гляди в обморок рухнет от стеснения. Ничего с этим сделать и не смогли. Рукоположили целибатом. Не монах, но и не женатый. Одиночество свое посвятил отец Павел храму. Дома только ночевал, да и то не всегда.
Часто прямо в пономарке на старом диванчике. Лежит в темноте, дверь в алтарь приоткрыта, на горнем месте лампада горит как одинокая красная звездочка. И будто мамка как в детстве стоит, вечерние молитвы шепотом читает. Свыкся он с одиночеством, перестал бояться, даже полюбил темноту эту и тишину. И покойников не боялся. Все само как-то прошло. Застенчивость только осталась сильная и страх перед грубостью людской. Пасовал в конфликтах, терялся, ответить не мог. Прихожане любили его за добрый нрав и безотказность. Целый день после службы тянули его в разные стороны. Каждый по своим требам. И как молодой был и постарше, и к пожилым уже бежит отец Павел со своим старым требным портфельчиком, переваливается,
дышит тяжело. А люди вроде бы и любят его, да как-то не сочувствуют, все тянут в разные стороны, каждому он нужен. Так и пробежал отец Павел свою жизнь как-то незаметно и для себя и для начальства церковного. Настоятелем никогда не был, всё «вторым», «третьим». В 45 лет служения вспомнили — наградили крестом с украшениями, а он чуть не в обморок от стеснения: «Куда ж я с ним, с таким красивым? Дорогой, небось. Пусть лучше на престоле лежит, а я со своим старым, мне с ним сподручнее». Восемь настоятелей пережил отец Павел. Все подшучивали над ним, свои службы на него перекладывали. А он, может и обиделся бы, да как-то на ум не приходило. Вроде все хорошо. Нынешний настоятель отец Александр, образованный, с академией, интеллигентный. Молодой только. Сначала все посмеивался над стариком, над его неловкостью. И служит не так, и ведет себя не манерно, как крестьянин, ей Богу. А проповеди… так это не проповеди – фольклор дремучий какой-то.
— Отец Павел, Вы хоть слышали когда-нибудь о гомилетике? Науке о проповеди? Предложения строить нужно понимаете, и чтобы нить мысли проходила через все содержание. А Вы бахаете отдельными фразами, что на ум придет. Вы с вечера почитайте что-нибудь, подготовьтесь.
— Я с вечера засыпаю сразу, как до дома доберусь. Я ведь неученый, отец настоятель, Вы уж простите меня. Не сердитесь ради Христа. Не посылайте меня на проповедь эту, я лучше в алтаре что помогу.
— А я думаю: ленитесь Вы, отец Павел, поработать над собой. Труд нужен, понимаете, понуждение. А в Вас равнодушие какое-то. 45 лет служите, а слово эксопостиларий до сих пор выговорить не можете без ошибки. И еще, что это такое Иван Креститель? Какой он Вам Иван, он, что крестьянин Костромской, что ли? Иоанн нужно говорить. Отец Павел, ну не стыдно Вам?
— Простите меня, отец настоятель, я очень сожалею, что Вас так расстраиваю, не со зла я, простите. А можно мне побежать, там Мария клиросная просила меня мать больную особоровать, и отпевание еще, и дом посвятить.
— Особоровать, да? Посвятить? Посвятить можно свечкой под кроватью. Отец Павел, уйди с глаз моих, искушение ты для меня. Иди, свети бабкам своим, свет в окошке. Они уже по 8 раз свои халупы освящали. Им не освящение надо, тут уж соревнование какое-то: кто больше, а Вы им потакаете, провоцируете религиозные заблуждения. Отказать не можете. Я ж Вам говорил, соборуют один раз от одной болезни. Они соборуются уже чаще, чем причащаются. И Вы вот в этом участвуете.
— Отец настоятель, можно я побегу?
— Побеги, бегун, побеги! Ноги-то вот уже не носят, а все «побегу». Побеги.
Так они и жили. Молодой настоятель, хоть и сердился на отца Павла все время, но поссориться, по-настоящему не получалось. Уж очень старик был неконфликтный. Прямо до застенчивости мирный. Весна в этом году задалась такая дружная, теплая.
Пасха хоть и была ранней, но к Страстной снега уже не осталось. Лишь кое-где в перелесках оставались последние серые сугробы. По парившей под ярким солнцем земле важно выхаживали прилетевшие уже грачи. В свежем, влажном весеннем воздухе витало уже что-то неуловимое пасхальное. И хотя в храмах все было еще в черном постовом облачении, в грустные нотки Страстной седмицы уже проникали предпасхальные ощущения. В Великую пятницу, отслужив с утра Царские часы, отец настоятель озаботился подготовкой храма к выносу Плащаницы. Клиросные проводили спевку, работницы храма скоблили вокруг подсвечников, мыли пол, натирали стекла у икон.
— Цветы привезли, цветы к Плащанице где? Пора уже приехать бы. Матушка, ну где же Вы? В 2 часа вынос. Я жду, — отец Александр нервно ходил по храму, разговаривая по телефону.
— Отец настоятель, разрешите обратиться, – отец Павел обнимал свой старый требный портфель без ручки и смотрел в пол.
— Что Вам, батюшка? Что еще? — Я хотел вот добежать тут недалеко, у Антонины просфорницы кума там, у ейного мужа «рожа» на ноге приключилась. В аккурат под Страстную. Я хотел добежать, просили они. Он не церковный, но человек хороший, слесарил всю жизнь в Депо в нашем. И вот «рожа» в аккурат под Страстную. Это Антонины просфорницы нашей кума, муж ее, стало быть, Петр. Страдает, а человек хороший, но в церковь не ходит, а тут согласился. Я хотел добежать. До выноса Плащаницы обернусь в аккурат. Позвольте, отец настоятель, добежать.
— Тра-та-та-та-та! Вы что тут тарахтите? Я с ума с Вами сойду! Антонины просфорницы кума… ее муж какой-то… Вы, что тут родословную мне рассказываете? Еще детей и внуков прилепите. Я уже понял, что Вам опять добежать куда-то надо, несет Вас. А сегодня пятница страстная, Вы помните, отец Павел? Вынос Плащаницы в 2 часа, Господа нашего Иисуса Христа. Для Вас это не событие? Как?
— Так я же обернусь, 3 часа еще до двух-то. Я ведь скоро: туда и обратно. Разрешите добежать до Петра, слесарь он в Депо нашем… «рожа» приключилась… я скоро…
— Добеги, Павел, до Петра, добеги, а коли не добежишь обратно к выносу Плащаницы, я на тебя рапорт архиерею напишу, и побежишь ты, дорогой наш, бегун на покой за штат. А там бегай куда хочешь, куда глаза глядят. Я ж на тебя положиться не могу, ты все время куда-то бежишь. Беги, бегун, время пошло.
Отец Павел возвращался с приятным чувством выполненного долга. Он все успел: и облегчить страдания больного человека, и склонить сердце его своей любовью и простотой к размышлению о смысле жизни, о Боге. У него как-то все это происходило само собой. Вроде бы и не скажет ничего сверхъестественного, все просто, но как-то убедительно, будто иначе и нельзя. Согретое сердце
лепится само собой, податливо, послушно. А согреть отец Павел мог даже без слов. Он любил человека просто, искренне, даже того, кого видел первый раз в жизни. Почему любил? За что? Он и сам не знал. Просто любил и все. Не задумываясь. Болящий слесарь депо Петр, муж кумы просфорницы Антонины, пообещал побывать в храме на Пасху, коли его сын довезет на своей машине. Отец Павел бежал напрямик задними дворами, через поле мимо кладбища, чтобы поспеть к выносу Плащаницы в храм. Огибая кладбище отец Павел, задыхаясь, стал то ли молиться, то ли говорить с покойными как с живыми:
— Добрый день, покойнички! С весной вас, дорогие мои, со Страстной седмицей! Заждались Христа, небось, когда придет и освободит вас от плена смерти. Уже идет Он на заклание, на поругание, на Крест свой, чтобы умереть так же, как и вы, и пойти за вами в ад. Там обнимет Он вас всех пронзенными своими руками, всех-всех прижмет к своей груди и скажет диаволу: «Я забираю их всех, не твои они». И заберет вас всех на небо, к Себе в Рай. Туда, где несть болезнь, ни печаль, ни вздыхание, но жизнь радостная. Светлая, хорошая там жизнь, дорогие мои. Очень хорошая. Подождите, мои хорошие, еще чуть-чуть, я вот добегу на вынос Плащаницы и расскажу о вас всех Христу распятому. Бегу я, отец Александр, уже скоро буду, дорогой мой собрат, отец настоятель. Отец Павел выбежал на полянку у молодого осинника, прямо на краю городского кладбища. Выбежал и остановился.
— Опа! Поп, – на него смотрели соловые глаза молодых людей, уныло скучающих на пригретой солнцем прошлогодней траве. На целлофановом пакете стояла открытая консерва, поломанный хлеб, разовые стаканчики и две пустые бутылки из-под водки. Выпивка закончилась, а веселье не наступало. Полупьяные ребята скучали и злились.
— Во, поп. Поп, ты откуда взялся как из-под земли. Из могилы, что ли, вылез? Отец Павел увидев нетрезвых ребят, попытался тут же уйти.
— Ты куда, слуга народа, бежишь от народа?
— Ты че, поп, от людей бежишь? Ты нас не любишь, что ли?
— А может он нам кагору принес поповского для причастия?
У отца Павла действительно в сумке была бутылка кагора. Кума просфорницы передала в храм на Пасху на Литургию и записки о себе и болящем Петре.
— Че, поп, правда, принес согреть наши души? Не, че молчишь, говори.
Отец Павел смутился от неожиданности и от грубого. Он стоял, прижав старый портфель к груди, и не дышал. — Дай сюда, я посмотрю. Попы они ведь всегда при кагоре. – парень грубо вырвал у священника старый портфель. – Пацаны, да он точно кагору нам принес! Во, чудотворец! Ты откуда узнал, что у нас кончилось? Красавец!
— Мальчики, если хотите, заберите вино, портфель только отдайте.
— «Мальчики»! Ха! Это он кому? Нам, что ли, пацаны? — «Мальчики, если хотите, заберите», да забрали уже,
забудь. На свой портфель и вали отсюда. – парень грубо сунул открытый портфель отцу Павлу.
Батюшка прижал портфель к груди, повернулся, чтобы уйти, но пошел не в ту сторону. Остановился, повернулся опять, пошел в нужном направлении.
— Поп, ты че, закружился, что ли? Да он пьяный! Поп, ты че, пьяный, что ли? Слушай, давай сюда с нами посидишь, пьяные разговоры поговорим. Вы же попы поговорить специалисты. Садись, сказал сюда! Давай, тебе говорю!
— Ребята, мне идти нужно. Я должен на вынос Плащаницы успеть.
— На какой вынос?
— Сегодня пятница страстная. Сегодня Христа распяли, потом с Креста сняли, в плащаницу завернули, хоронили потом. Мне нужно бежать, ребята. Я пойду, а вы отдыхайте тут. А я пойду, ладно?
— Никуда ты не пойдешь. Нам уже интересно, че там было в пятницу?
— Христа первосвященники предали и распяли.
— Кто такие — первосвященники?
— Да это попы жидовские.
— Че, серьезно? Во, попы, что 2 тысячи лет назад так и сейчас уроды, блин.
— Вы че, отец, Христа предали-то? Он че вам сделал? Больных исцелял, нищих кормил, в тюрьму ходил. А вы че, а?
— Ребята, так это же иудейские первосвященники были. Давно это было.
— Ну да, давно это было, а вы теперь же не такие, вы хорошие, исправились вы, да? – глаза парня стали злыми, кулаки стиснулись. – А по мне вы что тогда, что сейчас – одно отродье. Вы же лицемеры. Поп, вот скажи мне. В глаза смотри! – парень пьяно таращился в упор на отца Павла. Батюшка опустил глаза.
— В глаза народу смотреть-то стыдно! А надо. Отвечать-то надо. Иди сюда, поп, судить тебя будем.
— Ребята, отпустите, пожалуйста, меня, мне нужно бежать.
— От правосудия не убежишь! Встань здесь. – парень схватил батюшку за шиворот, поволок к осине. – Давай, поп, говори, че там по сценарию, как там было? За что попы еврейские Христа возненавидели?
Отец Павел понял, что не уйти ему. Он как будто смирился со своим положением, перестал вырываться и стал отвечать на вопросы.
— Я думаю, они позавидовали Ему.
— И че вы Ему позавидовали? Что народ не за вами, а за Ним пошел, что ли? Ну, так вы ведите себя как Он и за вами пойдут. Правильно я говорю? Нет? Только ведь как Он — трудно, вот как Он — бескорыстно, честно и чтобы всех любить. Даже разбойников. Ну, че, поп, любишь ты нас? Нет? Говори, давай!
Отец Павел поднял глаза на пьяных ребят:
— Так как же, люблю, вы же неплохие ребята, выпили просто.
— Неплохие? А если бы были плохие?
— Как это?
— А вот так. Любишь ты меня, а если я тебе щас в рыло дам? Ты так же меня любить будешь? Ну, че молчишь? Трудно, как Христос, да? Болтать вы мастера, лицемеры, а че учишь тому, че сам не умеешь? Бабок дурите, чтоб вам свои пенсии приносили, а вы их в брюхо свое поповское складываете бездонное.
Отец Павел поднял глаза, стал как-то отстраненно смотреть по сторонам.
— Че, поп, смотришь, как сбежать отсюда? Нет, тебе теперь суд. Ты ведь, говоришь, что нужно жить, как Христос жил. Ну, так давай, по полной, и суд и унижение и распятие, а ты нас люби. Господи, прости им, не ведают что творят! Так ведь, поп, а? Тащи его, пацаны, вон к тому кресту.
Посреди кладбища стоял большой дубовый крест. Крики ребят спугнули черного грача наблюдавшего с перекладины за происходящим.
— Ребята, нельзя в это играть, это же не шутки. – отец Павел судорожно смотрел то на одного, то на другого ища сочувствия.
— Ты че, поп, кто здесь играет? Играли мы лет 10 назад, а щас мы уже водку пьем и все по-настоящему. Ты видно не поймешь никак. Чтоб убедительней было, я вот так сделаю. – парень наотмашь ударил отца Павла в лицо кулаком. Вспыхнул свет, потом темнота, шум, голоса вдалеке.
Отец Павел открыл глаза: маленький рыжий муравей полз по травинке прямо перед глазами старика. Пьяные парни открывали кагор, пили из горлышка, безумно смеялись как-то по-звериному жутко.
— Ты не помер там, Царь Иудейский? Ну, вставай, давай. Отца Павла подняли, в бороде смоченной кровью запуталась сухая трава. Скуфья упала, редкие седые волосы шевелил весенний ветер.
— Ну, че, поп, кайся давай.
— В чем?
— В наркоторговле. Почем опиум для народа? Сволочь. Дурите народ церковники, наживаетесь на чужом горе. Учите, чтоб вам в церковь деньги свои несли, а сами потом на эти деньги жируете. На мерседесах ездите, в золоте все, жрете от пуза. Че смотришь на меня? Еще хочешь, морда твоя наглая? – парень замахнулся, отец Павел закрыл глаза, съежился.
– Трусишь, поп?
— Трушу, сынок. – отец Павел отвечал как-то наивно по-детски. – Трушу. Вытер рукавом подрясника кровь с бороды, смотрел с удивлением на красную полосу на ткани.
— И че ты можешь сказать в свое оправдание?
— Ничего сынок. Ничего человек не может сказать в свое оправдание, если Бог его не оправдает через результат жизни его.
— Мы твой результат теперь. Понял? Привязывай его, пацаны, к кресту проволокой вон той. Ну, че, сам пойдешь или за шиворот тащить?
В отце Павле происходила какая то необъяснимая перемена. Все тело переполнялось приятной теплотой, в сердце наступил мир и тишина. Страх стал тускнеть и уходить на второй план.
— Я пойду сам. Я пойду, пойду.
Он встал к кресту спиной и раскинул руки.
— Ты че, гордый такой стал, как победитель? Крути, пацаны проволоку потуже, чтоб ощутил, как на кресте висят. Проволока впилась в запястья, кожа надулась, пальцы посинели.
— Вот так как-то, поп, ну скажи: любишь нас теперь?
— Мамка, а Христу страшно было, когда Его распинали? — Страшно сынок, ведь там все было по-настоящему, очень страшно.
— Как же Он терпел, мам? Я бы не смог. Испугался бы.
— Вот так, терпел, и страшно, и больно было очень Ему. Почти невыносимо. Он даже закричал там: «Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил?»
— Жалко Его мам, до слез прямо жалко. А я бы не смог.
— А че, ты, поп, вдруг глаза не прячешь? То в землю смотрел, а щас в упор прямо. Че с тобой, страх потерял? Так я тебе сейчас ножом ухо отрежу. Не боишься, нет? Отец Павел смотрел куда то за горизонт далеко, его здесь не было. Все происходящее происходило как будто не с ним, как в кино. Он смотрел пристально, не мигая, сосредоточенно. Потом как бы вернулся умом на землю посмотрел отрешенно на руки привязанные ко кресту. На одну, на другую, обвел ребят на поляне взглядом и произнес как-то из груди надрывно: «Господи, Господи мой!» – глаза его наполнились влагой и слезы потекли по старческим щекам – «Господи Иисусе Сладчайший…».
— Че, поп, зарыдал, страшно тебе, больно?
— … не ведают, что творят. Что ты, сынок, я плачу от умиления. Ведь умираю как мой Христос. Честь, ведь, какая! Господи, недостоин ведь я, грешен. Господи! Парня перекосило от злобы:
— Как Христос, говоришь? Честь тебе? Не дождешься! Умри по-другому. – он размахнулся и со злостью ударил старика ножом в правый бок под ребро.
«Един от воин копием ребро Его прободе и абие изыде кровь и вода.»
Отец Павел вскрикнул, голова его упала на грудь, тело обвисло на привязанных проволокой руках.
Где-то далеко прогромыхал первый весенний гром. На землю упали редкие крупные капли. Больше и больше приглаживая седые волосы и стекая по бороде на грудь, на землю яркими рубиновыми каплями. Справа у креста стояла покойная мать отца Павла в белом платке. Она с улыбкой что-то говорила сыну. Говорила и говорила и улыбалась ему как в детстве.
В храме отошла служба Великой пятницы. Плащаница украшенная цветами лежала на столе в центре храма. Народ еще шел к ней на поклонение.
— Отец Александр, ну не расстраивайтесь Вы так. Обернется он, куда он денется. – настоятеля утешала пожилая регентша. – Поберегите себя, ну не расстраивайтесь, на Вас лица же нет.
— Маргарита Петровна, сегодня пятница Великая, вынос Плащаницы, между прочим отслужили только, а ему дела нет до наших обще-церковных дел. У него только
свое. Эгоизм это, понимаете, эгоизм. Я никогда не смогу этого понять. Все, хватит, сил мох нет.
С шумом распахнулась дверь, в храм влетел чужой незнакомый мальчишка весь взъерошенный. Задыхаясь, с порога стал кричать:
— Там на кладбище… я гулял с собакой… мы вдвоем были на кладбище… крест там и он на кресте один висит там… На кладбище это все мы гуляли, а он висит там один.
— Тра-та-та-та-та! Ты чего тарахтишь тут? Кто там висит? Сил моих нет. Что ты кричишь? – отец Александр схватил пацана за плечи и стал истерично трясти – кто там висит? Час от часу не легче.
— Да поп ваш старый висит, убитый на кресте, я же говорю вам… мы гуляли там, а он висит, один и никого нет. А я сразу сюда побежал.
В храме повисла гробовая тишина. Отец Александр замер как парализованный на несколько секунд. Потом рванулся к алтарю, остановился, повернул ко входу и с шумом выбежал из храма. Дверь хлопнула и как будто разбудила остальных людей стоящих в храме. Народ бежал на кладбище. В центре, у большого креста, стоял настоятель отец Александр. Он смотрел на отца Павла своего дорогого собрата, которого еще 15 минут назад он готов был разорвать от злости, и которого сейчас так сильно любил. Священник опустился на колени, сказал шепотом: «Свершилось», обхватил голову руками и горько заплакал. Холодный весенний дождь хлестал его по спине. Отец Александр стоял на коленях, в луже, ничего не понимая и не ощущая. Люди снимали отца Павла с креста, положили его на пальто. Кто-то говорил, что нужно дождаться милицию, оставить все как есть. Регентша Маргарита Петровна ходила как полоумная от одного человека к другому и говорила:
— Нужно спешить, на Пасху хоронить нельзя: праздник большой. Нельзя хоронить, поэтому нужно спешить. Завтра бы уж успеть с похоронами. Эти слова вывели из оцепенения отца Александра.
— Нельзя на Пасху, говорите, праздник, поторопиться?! Это иудеям нельзя, у нас все по-другому. На Пасху будем хоронить. Вот так я вам скажу, дорогие братья и сестры. На Пасху!
В сумеречном храме горели лишь лампады. Народу стояло не протолкнуться, но тишина была гробовая. Колокол ударил 12 раз, из алтаря послышалось одинокое тихое пение отца Александра: «Воскресение Твое, Христе Спасе…», потом в алтаре зажегся свет и открылась завеса, отец настоятель запел громче и торжественней. При третьем пении в храме вспыхнуло все освещение, открылись царские врата, священник шагнул в пространство храма и в полную мощь своих легких запел Пасхальный мотив: «Воскресение Твое Христе Спасе ангели поют на небеси…». В центре храма народ поднял на руки красный бархатный гроб с телом отца Павла. Мужчины на вытянутых руках стали передавать его к выходу, каждому хотелось понести гроб. Сверху, с клироса, создавалось впечатление, что отец Павел поплыл над людской массой. «Воскресение Твое Христе Спасе…» — так торжественно и величаво никогда здесь не звучал этот священный гимн.
Народная река со свечами в руках три раза обнесла гроб с телом усопшего вокруг храма и остановилась у алтарной стены на краю свежей могилы. Как все было дальше, отец Александр помнит плохо. Помнит, что кричал «Христос Воскресе!» и сам себе отвечал «Воистину». Потом он горько плакал, но не по отцу Павлу, он плакал о себе, вспоминая, как бывал груб со стариком и невежлив. И наконец, понемногу затих, повторяя себе под нос: — Как хорошо, Господи, как торжественно, правильно все, ведь это ж честь какая. Христос Воскресе, батюшка, отец Павел, Христос Воскресе!
Рано утром солнышко осветило свежую могилку у алтаря храма, на которой веселые воробьи клевали пасхальный кулич. Ощущения смерти не было, была тихая радость. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!